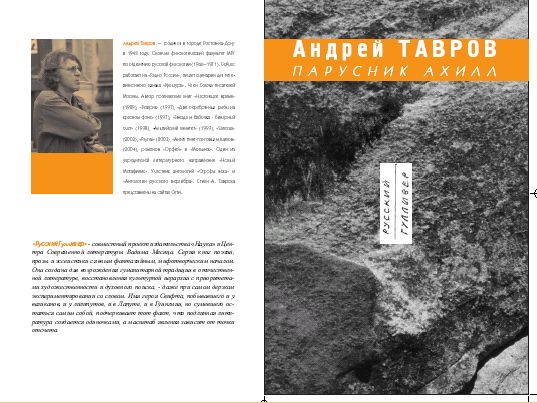SANCTUS
Песня 1. Земля
1
Венецианская игрушка у тебя в руках – театр со снегом.
Переверни – блеснет, соберутся под купол хлопья:
ангелы и дельфины – старинная рифма просится в руки.
Все, что было, в том числе твои плечи, – становится слепком.
Истончаясь, лоб обхватывает пространство и ловит
дельфина пленкой вакуумной упаковки; Sanctus
владеет исчезновением ангела и дельфина.
Пленка держится дольше, но тоже уходит в август,
как сон рядом с тающим льдом, чья середина
неуловима, если внутри оттаивает ундина.
Sanctus владеет собой – единорогом, ничем не владеет он, кроме Земли Святых.
Матовые слепки – снежки пятипалого лба
в теплом воздухе обрастают подробностями – хвостом или нимбом,
крестом и костром для девы, прозрачным лимбом,
который есть твое тело не вдалеке столба.
Чашка кофе в баре. Игрушка в руках со снегом.
Бывший горком напротив с восковой Троицей у Мамре.
Авраам – нелеп. Ты стоишь в костре-
самолете, Жанна, балансируя, двигаешься ко мне –
твой одноколесен конь, он завит в ракушку.
Тебе Бог говорит простые вещи.
Размотав сфинкса найдешь под подушкой катушку,
сквозь нее увидишь ангела, из ниток сошьешь рубашку.
Время мне тягостно, как беременной, - говоришь солдатам.
Я бы взял тебя в дирижабль, несущий распятие ждущей руке.
Я сижу в баре с той, о которой мечтал трижды.
Четыре стихии слепили ее, как раковину моллюск.
Я Sanctus, и я плачу у костра,
что вежды возносит к небу на ветке вишни,
вросшей в череп Адама. Даль клубится, быстра.
Господи, в этой рубашке я, Хирон,
вымирал до девы, освещающей небо льдинам.
Ров вырыт в ангеле дельфином,
выпрыгивающем из его бутыли –
сгущенья мест, где мы любили.
2
В муху падая, как в колодец, сгущается небо,
прежде, чем сдаться, принимает формы медведя, волка и антилопы,
но все кончается небом внутри изумрудной твари –
Аттикой с парусами среди раздевшейся Каллиопы
полета, разбежавшегося вдоль наклеенных полушарий
неба. И весит она теперь, как пуля,
в которую впрессована жизнь роты.
Тихий бриз колышет вьюнок на колонне – пусты Фермопилы.
Чтоб то, чем пишется строчка, двойником заходило в гроты,
вылей на голову золотые чернила.
Бриз над холмами. Мрамор скамьи
пульсирует, как рысь в мешке, как дева
в перекрученном платье, обозначив коленку.
Солнечные зайчики облепили колонну.
Сядешь на мрамор – уйдешь под воду.
Юность Европы галлов! Яйцо событий!
Руки ее сквозят в аллее, как окнами поезд,
она – вазелин, влитый в незримый эйдос.
Раковина губ нестерпима, как сильный полюс
магнита, стягивающего в дугу солнечный хруст пейзажа.
Рысь вьется флагом. Ангелы с инструментами –
виола, мандолина, чембало, клавикорды
не выявлены дешифовальной сеткой взгляда –
кажутся фрагментами виллы, разрытой синью.
В квадратах зренья – взвешенный сын Гермеса.
Глаз – точка сборки. В нем золото Солнца с переводной программой.
Птицы щебечут – сойки, зяблики, воробьи.
Твоей спиной я вынута, как мрамор,
и в нише от меня растет одно «люблю».
И я себя из воздуха леплю.
Какие медовые соты в воздухе, какие
поцелуи. Прыгай, Салмакида, в серебряный под волнами виноград –
в прыжок Гермафродита. И нагие
мирьяды шариков удваивали пол,
и мозг каштана поднял их на ствол.
3
Единственная жемчужина не для купца, а для тебя самого, Господь –
кто это или что? – вопрошает Sanctus в зимнем порту.
Язык его, как пес без ног и без рук,
делает круг и вновь застревает во рту.
Яхта скрипит, и утка летит на звук.
Кто же из них: Франциск? Александр? Тереза? Андрей?
Или Сын твой? Или весь восставший Адам?
Бог молчит, как всегда, когда говоришь ты сам.
Снег летит между рюмок, ножек столов и рей.
Санктус вслушивается в розовую раковину с фортепьяно внутри.
Жанна молится в Пуатье, я держу раковину, как птица, бос.
Взгляд епископа левитирует под потолком, словно мела брус.
Ее молитва восходит лестницей в парусах.
Я бы обнял тебя эрмитажным «фонтаном слез»,
подхватил ракушками разошедшееся в хрустальную клетку тело.
По лестнице – львы, фазаны, медведи молитвы,
ястребы, козы – вся живность Франции и остального
мира взбирается к Богу, перегоняя друг друга.
Бог раздает им перья, чернила и бритвы,
льву дает щит и копье и кентавру – факел и флаг для Жанны.
Пишут новую хартию, складывают слова,
путаясь в крыльях разгоревшихся в ночные пожары,
подгоняют себя под смысл, комбинируют варианты, выводят льва
их лифта себя — на разные этажи мира,
похожего Африкой на льва, Антарктидой — на льва анфас, Европой на лиру.
На каком этаже языка говорил серафим?
На каком – ягуар, пингвины и туры?
— На лучшем, чем ваш Архангел пел и парил.
Я ходила за овцами. На дворе кудахтали куры. Петух пропал.
Михаил — это птица, слитая сразу из всех зеркал.
— Когда такая сядет на ладонь,
ее растет сиреневый накал.
Бог жжет ее и говорит с тобой.
— И что же Он тебе сказал?
— Спаси мою Францию, Жанна.
Песня 2. Луна
1
Ткет серебро женских заколок. Уголок глаза,
выпуклый, как улитка. Она облизывает губы:
быть всему! Метафоры – вещественны, не дигитальны.
Аэроплана хвост торчит из лупы
Луны. В чащобе газа бродит Актеон.
Они бугрятся, воздуха наросты,
чтоб выпростаться в зеркало, медведя,
аэроплан, летящий под луной,
улитку, что с лица уносит веко
и пригоршни монет бросает в ветер.
Уносит танк подробности пейзажа
на гусеницах. В башне, не касаясь,
парит, как красный бархат сонной ложи,
ночная бабочка, вращая ствол.
Скоба и спуск — у Артемиды под лопаткой.
Мы не проявлены. Мы до сих пор внутри
пространства меж орлом и решкой — вне монеты, –
растянуты, как пьяная гармонь
меж двух ладоней прежде сжатой Леты,
обол во рту и в бабочке — огонь.
Я пятипало чей-то профиль грею,
пока рука идет сквозь воздух. Он меня
узнает, вычитая из себя
те пленки теплоты и темноты,
что держат на носилках день Помпеи.
Предметы вырастают из желанья.
В том месте кисти, что вовек не взять,
чтоб глаз зацвел грибообразный и живучий –
жест австралийской раковины, плюс
моллюском – Полифем гремучий..
Из ртути Артемида над ручьем,
рожденная от глаза с тонкой кожей.
А между – танк, размазавший живьем
арбуз из Актеона вдоль по тракам.
Сияет кружево над девственным коленом.
2
Ты танцуешь свой танец в прозрачном слоне,
там где липа висит зеленой листвой над каналом.
Ты расширена – вне, в рукаве и длине,
завернувшись в прозрачный объем пятипалый.
Ходит ветер ментоловый — ножом по спине.
Ты танцуешь свой танец, холодящий округу,
он ступает на задних, хоботом крутит луну,
мнет герметик розовый неба, роняет слюну.
Светляки залетают в его морозильную тишину.
Ты чуешь африку его хрупких границ по звуку.
Ты не магнитом расширена и не Мариной Бурбон –
сияньем слоновой грации, отдачей земли,
прозрачным увальнем, забирающим лето в полон,
зеленью Грибоедова, львом и крылом – вдали.
Воздушный твой айсберг – гремящий слон.
Тебя не прижать к решетке, но взять дирижаблем.
Воздух вокруг закручен слонообразно, как возле Феррари.
Руно ледяное с серебряной каплей.
Повадки, заколка, патлы, как у последней твари.
Ты танцуешь, красотка, рэп, тугой, как пневматический выстрел.
Так танцевала Жанна внутри лохматого воздуха.
Морозный танец внутри слона Ганнибала –
внутри тополиной твари Христовой, зеленой.
Когда отходила створка, она выпадала
в объем атаки – девой верхом на коне.
— Аве Мария, радуйся благодатная.
Слон молитвы и слон атаки – одно.
— Я плачу, когда вижу Твоего Сына, потому что
никто не любил меня так, как Он –
с золотыми бивнями гневный и кроткий Слон.
3
Матовый подсвет дня, белые с шелком шорты,
длина неподвижных ног сдвигает вниз переулок,
как если шагнуть на вкопанный эскалатор.
Застывший Санктус, смерзшихся снов авиатор,
паутинкой летит в зубах леопардовой морды.
Sanctus целующий, поиграй сухим льдом розовой Галатеи,
возьми разморозку в губы, продерни сквозь пасть уздечку,
лохмотья кожи оставь на ключах в азоте,
возьми ее за руку, отведи деву за речку,
пресную речку Пресни, где в чемодане тротила щелкает соловей.
Никому не говори, как это будет, ни стеклянному самолету,
ни красному волку, ни губной помаде,
аэроплан любви проведи по воде, по вате,
не прикидывайся ни кем. Не говори, что не хочешь
с ней спать. Но ты хочешь большего, Sanctus.
Иди, не боясь, туда, куда волк не ходит.
Надень прозрачные туфельки, поменяй пол.
Услышь, как щекочет пером шелк неба щегол.
Веди ее к речке воздушных шаров и парфюма, сажай за стол
с вросшим в субмарину красным матросом трюма.
Говори так, чтоб тебя поняли. Это Город.
Тебе не много осталось, ей – больше, скажи об этом.
Единорог играет звонким летом,
Москву подкидывая шариками с вмерзшим
платаном, кленом, вязом, ветром нежным.
Снимает карандашный силуэт. –
Что образуешь ты, к нему припавший
со всех сторон? – Когда Единорог,
то деву, если дева, то дракона
горящего из всех пропавших зажигалок.
Я стою, Sanctus, блаженным солдатом
между ангелов с красным нёбом и зеленых галок.
Я распорот ветром и вне закона,
конь летит на меня, надетый поверх дракона.
Меня не убивает Жанна.
Песня 3. Меркурий.
1
Брось в лицо мне горсть гранатовых зерен,
раздави, чтобы брызнуло по скуле – так рождаются боги.
Взгляду бессмертных лицо кривизной – красный стакан,
утроба для Дважды Рожденного, чей череп зелен.
Персефона пьет фрактальное сердце – сон бежит по ногам.
Вакх обгоняет собственный голос, как бомбардировщик,
оставаясь в голосе целиком – остальное для вида.
Непроворному смертному так пальто подает гардеробщик,
пока в жарком ларце все длится и длится фуга
Иоганна Баха, чтоб глубь рукава не вдовела.
Горлица, горсть, горностай – Гермеса роскошная свита.
В красной сетке лицо изнутри подсвечено ртутью.
Ты бы поцеловал ее в спину лучше, чем я.
Твоя лира – объятье сзади, когда ребра совпали до герма-
Фродо? Фродита? Ребро лишь от нас осталось. Подкова в раскопе ручья.
Стеклянные шарики, склеенные герметиком в корпус,
во взметнувшейся вверх, разрезанной юбке Мерлин,
скрученной над остриженной головой в завинченный конус,
под небом, цвета подсиненной марли –
с Жанной костры, кочующие из внутреннего неба Парижа во внешнее — Арля.
Конусы жженья, с пропрыгивающими в себя эллипсами.
Пирамидки гиперболоида, спрессованный свет болида,
мигалкой пробивший крышу, наперсток верности, —
ты паришь надо мной, как о взрыве сон инвалида,
или пригоршня Прозерпины, в которую влито сердце.
Яхта, вросшая в землю килем наружу, – двигает землю.
Матросы обрастают дельфинами, мачты схватывает лоза.
Костер - это киль. Дева, врытая в пламя, двигает небеса
Франции и остальные, двигает полюса
звезд, удержанных в капле слезы, когда сгорела слеза.
Молись о нас, Дева, чтобы мы верили в твоего смешного Христа,
чтобы любили друг друга и надеялись,
чтобы плакали и смеялись под небом, где горит Мария-звезда,
чтобы в прозрачных ведрах идущего впереди
золотыми восьмерками ходила вечность.
2
Я скажу тебе, кто ты, пока Аполлон оттягивает стрелу.
Возьми колесо со спицами и пустой втулкой –
обод намазывает на себя пасту и пастилу
твоей жизни: звезды, ресницы, пружины куклы,
Океан, в котором тебе сгореть, – барбарис, золу.
У каждой спицы на ободе – возможная ты,
ждущая шанса заполнить центр пустоты,
у каждой стоишь в рост, как на парковой центрифуге с воплем.
Впрыгнуть в центр удается, лишь прикинувшись полем,
обратным раскрутке, от которой дрожат болты.
Запомни свою разнесенность на легкий обод.
Не путай себя с Маргаритой, потому что ты – дождь,
не путай себя со звездой, потому что ты – овод,
не путай со смертью, потому что — цикада, дрожь.
Не путай ни с кем другим – ты христова.
Вранье, что – в центре: на конце сразу всех
зубчиков часовых, на чужой реснице,
на конце луча, на статуях Летнего в снег,
на кончике взглядов, уколотых клювом синицы,
сведенных в пустую втулку, раковину, орех.
Кто положит его в карман, тем ты владеешь.
Евридики орех гудит в кармане Орфея. —
Это пенье на штык глубже фарватера Стикса –
в створках таких ввинчено все, в чем сбылся
бы ты, когда б твой орех был в ее кармане.
Гермеса подошва галькой хрустит за спиной.
Скачет перед тобой белый конек заводной.
Дева идет последней, вырыта в тело рвами,
за эпителий зашкалившей пустотой,
с точкой жизни меж женственными холмами.
Спица от точки тянется к пустоте золотой небес,
где сонм торжествующий раскручивает юлу
Вселенной и колышется в пении райский лес,
что вырос из наших тел, пока мы пели во рву.
Я скажу тебе, кто мы, пока Аполлон оттягивает стрелу.
3
Скачущая вперед — впереди образует больше,
чем оставляет сзади, смотри, как сбивает галоп,
словно сыры, воздух, катящийся дисков звонче, —
обгоняющий всадницу марш ветряных голов —
дискобол копыт мечет их ветру в лоб.
Поскакавший туда, куда больше никто, сдвигает пространства скатерть,
очертанья сматываются с вещей, вакхово сердце
распадается в зерна граната – прозрачна заверть
вибрирующих оболочек и тоньше осиного жала.
Ты состоишь из бус, в которых лежала.
Они собирают тебя, состоя из других:
из легионов коней, из сонма аэропланов,
баночек с желтым желе, крупных и мелких планов,
видимых с велосипеда, из-за букета,
отрицательным Цельсием свернутых в шарик света.
Боже, до чего хороша под осенним небом!
Где угол воздуха райская грызет пантера,
я потянул бы тебя за рукав, чтобы вся на себя распалась –
воздуху не щелкнуть застежкой, не расстегнуть на себе платья,
без тебя ему не дойти до себя из сквера.
Туда-сюда ходит прозрачный воздушный шар,
зажатый меж хлопком моим и шелком твоим – не дотянуться до губ,
внутри – ангелы с платиной крыльев, внутри блаженный пожар
льва и ветки с колибри, воздушный Моцарта шлюп –
расширяющийся к центру Эдем; меж лицом и лицом.
Расширяющийся к центру – меж голосом и сачком,
увеличиваясь безмерно – меж ветром и рукавом,
разворачивающий приближенье – как отдаленье от пяди губ,
закатывающий просторы, где мы друг в друге пейзаж,
в мерцающий напряженно золотой любви карандаш,
чертящий по грифельному стеклу
гриву лошади, бакен льва,
брус прозрачного воздуха под облаками из льна.
Sanctus’а, похожего на Оранту, – с тобой,
протаявшей между ребер растрепанной головой.
Песня 4. Венера
1
Единственная жемчужина не для купца, а для тебя самого, Господь –
кто или что? Я не уйду отсюда, пока
не услышу ответа. Я здесь стою, средь серебряных мух
на фоне яхты, в порту, где раскидывает рога
лось воздуха, подставляя ветвистые раковины под прохудившиеся облака,
серебро собирая, как эрмитажный азийский фонтан
собирает хрусталь, – blonda bestia беглого снега –
клетка для канарейки с нимфой. Нимфа
без канарейки – ты там,
где красный язык прозрачен и жжется лимфа.
Замри, я вычислил тебя! Ты попалась! Угу!
Красный язык прозрачно ощупывает на берегу
форму того, что к нему прикоснулось, себя самого –
чужой рукой и чужим языком: снега, облачка «Barbary», как поплавок,
вздрагивая. Переваливаясь в себе горошиной. – Как хороша на снегу!
Красный пульсирующий объем – нимфа
на непрозрачном сквозная, путаница-плетенка,
козочка грота, лопатками тебя я ловил всю жизнь –
выскальзывала из пальцев речи, как секундная стрелка, либо
постукивала на взлетной золотым копытцем козленка.
Как ты прекрасна, нимфа любовных касаний,
речи и крика. – С талией в двух ладонях, с тонким крестом Иоанна
Предтечи в пальцах. Ты та, что уходит,
связывая тоннель с перчаткой, глазницу с безмолвной ванной,
золотой, как внутренность взрыва бомбы.
Ты похожа на якорную цепь вне ковки и веса.
Никого нет красивей тебя, невеста!
Твои ноги прозрачны, словно по ним пробежала медуза.
Яблочко ореховой мандолины, дочка, чуточка, дом! –
Европа материка, похищенная языком.
Пойдем со мной в землю святых, Муза.
Прямо отсюда, как есть. От снегопада-лося.
Вернешься с говорящей раковиной, вшитой в череп.
Слова не нужны нам будут, и лопнет роза
дыханья, облитая поцелуем-азотом.
2
Александр Ярославич верхом путешествует в Орду средь венер,
и если это снег, то скважины сквозь воздух – афродиты.
Собери снежинки в пригоршню – станешь метелью.
Собери песчинки в рукав – потечешь, как нерв
времени – кто тебя соберет в пустыне, кто ты? где ты?
Собери снег венер – станешь совестью голой,
северным сияньем молитвы, впечатанным в капустницу над Сахарой.
Александра Ярославича несет пара ласточек в Гоби-пустыне –
одна в зрачке летит, другая из ножен полых
одним единственным черным пером выходит.
Он наброшен на собственный череп, как шаль на лампу.
Как снегирь из кремня, топорщится в сердце молитва.
Облака летят в Гоби, его перегоняют.
В левой пригоршни копошится над озером битва,
к правой привязан аэроплан неба.
Князь, поймавший сердца сачком – Премудрость,
расставляет в воздухе бабочек, венер и слова
молитв: он, поймавший сердца сачком нефтяную Русь
со склеенными смертью перьями, сводит над ней – себя,
как недоношенный плод, замыкает в полость.
Воз золотой, проникая в ушко иголки,
везет душу Руси – с куполами чашу — перекинувшись блоком
неба, опускается нить в позвонок князя.
Велик его труд, не мужской, не женский. Венеры
внутри песчинок выпрямляются, как за магнитом.
Он похож на удар хвостовой пантеры —
золотые кольца, сошедшие прямо в небо,
Дева Мария поет в спинной и грудной створках,
разойдясь — на двух, плывущих в ракушках.
Каток Орды на площади Кракова дымится асфальтом…
Он раздвигает глубоководную Русь
в золотом сеченье – человеком, упершимся в круг
изнутри – выдавливая линию жизни с рук
на твоих границах Русь-человек.
В каждый купол зарыт странник.
3
Я на него слишком долго в то лето смотрела.
На зеленом лугу гуляя, никого не замечала,
даже когда шип впивался в палец
или эроты кидали снежками в спину.
Я забыла имя, я кормила фиолетовых чаек с причала.
В то лето много красных привезли на остров кирпичей.
Вырос дворец до неба, опустился до центра
Земли – я бродила в лугах, разговаривала с ветрами.
Никто не видел, как он прекрасен в свете свечей,
никто вместо меня не говорил в лугах с ветрами.
Никто не понял, что это был белый цветок,
а не бык, белый бутон, а не бык, белый пожар
сирени, белая раковина под снегом, с ног
сбивающая, белая в ветре скрижаль,
а не бык, с ног валящая, а не бык. – Бог!
Снаружи все это выглядело не так.
Если смотреть на восьмерки кончика спицы, кто догадается о носке на ноге?
Исследуя клейкую структуру пера, кто подумает об Эроте
на 30-й стр. «Пира», о всех этих блаженных премудростях?
На белого медведя секса наткнувшись впотьмах, кто разглядит
ангельский самолет?
Я давно догадалась, что существую в трех
по крайней мере реальностях –
своей, золотой; зеленой – тоже своей,
и коричневой, как грецкий орех,
что восставляет телку Дедала с голой царицей внутри.
Рождался Минотавр, достраивался Лабиринт в тот день, когда опали клены.
В зеленой реальности было не так: —
каждый копал в другом свой единственный верный ход,
словно ища золотое яблоко в мешке, полном зеленых.
Мы вместе зияли, и яблоком полым казались небо и рот.
Это адская стройка – рытье твоей жизни из яблок.
Покуда ты – во мне, я рою лабиринт — в тебе, любимый:
твой полукруглый внутренний скелет, твой ялик…
И в яблоках подброшенных стою:
всем телом — в шаре, как сеченье золотое.






 Начал писать в школе. Продолжил на филологическом факультете МГУ, где был признан лучшим поэтом – недолгий период безусловной славы. При СССР публиковал стихи два раза – в журнале «Дружба» и в «Молодой Гвардии» сборник стихотворений «Настоящее время». В дальнейшем – ряд небольших поэтических книг самиздатского плана, к одной из которых написал предисловие о. Александр Мень. Стихи также были опубликованы в антологиях «Строфы века» и «Антология русского верлибра». Чувствовал себя близким в некоторых точках к направлению метареалистов (Парщиков), а также к творчеству Паунда, Уолкотта и Элиота.
Начал писать в школе. Продолжил на филологическом факультете МГУ, где был признан лучшим поэтом – недолгий период безусловной славы. При СССР публиковал стихи два раза – в журнале «Дружба» и в «Молодой Гвардии» сборник стихотворений «Настоящее время». В дальнейшем – ряд небольших поэтических книг самиздатского плана, к одной из которых написал предисловие о. Александр Мень. Стихи также были опубликованы в антологиях «Строфы века» и «Антология русского верлибра». Чувствовал себя близким в некоторых точках к направлению метареалистов (Парщиков), а также к творчеству Паунда, Уолкотта и Элиота.